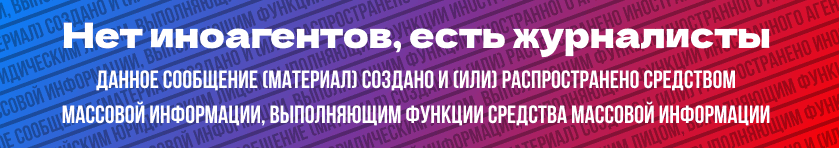Первая часть интервью с журналистом Максимом Шевченко.
— Мы сейчас с вами находимся во Владимире. С Владимиром связан последний год вашей работы. Но в масштабах вашей личности Владимир — это все-таки очень маленький этап. Поэтому я бы хотел расширить тему и поговорить о вашем прошлом. Я много смотрел ваших интервью и почему-то никогда не слышал от вас рассказов о времени вашей молодости. Ведь вы тогда жили в очень интересное время — это была Перестройка. Менялся уклад жизни, появлялись новые веяния. Поэтому мне интересно, как вы тогда воспринимали те политические процессы, которые происходили в Советском Союзе: негативно или позитивно. Каково было тогда ваше мировоззрение?
— Спасибо за вопрос. Во-первых, я не соглашусь, что Владимир — это какой-то маленький эпизод в моей жизни. Это совсем не так. Это первый раз, когда я, скажем так, попробовал себя в законодательной власти. В политической борьбе я участвовал давно. Я участвовал в выборах в Дагестане, может быть, даже в гораздо более жёсткой обстановке. Но во Владимире это была принципиальная политическая борьба, в которой мы одержали победу.  Я не мыслю себя как какого-то супергероя. Я считаю, что те жители Владимирской области, которые нашли в себе силы проголосовать против всемогущего и ненавистного губернатора Орловой, и есть настоящие герои. Мне просто выпала честь встать вместе с ними в это лето 2018 года, которое, я считаю, должно войти в историю. То, что мы сделали во Владимирской области, — это совсем не эпизод. Я считаю, что это была первая трещина во всём фасаде этой системы. Мы были первыми, до нас этого никто не делал. Поэтому я горжусь тем, что мы сделали во Владимирской области в августе-сентябре.
Я не мыслю себя как какого-то супергероя. Я считаю, что те жители Владимирской области, которые нашли в себе силы проголосовать против всемогущего и ненавистного губернатора Орловой, и есть настоящие герои. Мне просто выпала честь встать вместе с ними в это лето 2018 года, которое, я считаю, должно войти в историю. То, что мы сделали во Владимирской области, — это совсем не эпизод. Я считаю, что это была первая трещина во всём фасаде этой системы. Мы были первыми, до нас этого никто не делал. Поэтому я горжусь тем, что мы сделали во Владимирской области в августе-сентябре.
Для меня это были очень тяжёлые дни, когда убили моего друга Орхана Джемаля. 1 августа я узнал о смерти моего самого близкого друга. Это только укрепило мою ненависть к этому режиму, который совершает убийства и потом врёт, саботируя расследование этого убийства.
Что касается вопроса про мою жизнь, то я могу на три часа [рассказать] монолог по этому поводу. Я родился в московской семье инженеров, мой отец — геофизик. Мой папа, Леонард Борисович Шевченко, объездил всю страну, работал в тайге, пустыне. Семи месяцев от роду меня увезли в Пакистан, где тогда работали советские специалисты, искали нефть по договору с Айюб Ханом, который тогда был президентом Пакистана. Примерно три года (до 1969 года) мы жили в Пакистане: и в Карачи, и в Равалпинди, рядом с тем местом, где сейчас находится столица Пакистана — Исламабад. Потом я уже взрослым тоже бывал в этих местах.
Два моих деда — это профессора, доктора. Но при этом вся моя семья — это детище советской власти. Все мои предки родились не в дворянских поместьях, а в очень простых избах. И закончили свою жизнь учёными, знающими по нескольку иностранных языков и академических дисциплин. Поэтому в Москве я рос в достаточно комфортной ситуации, ходил в немецкую спецшколу.
— С Белковским? Так написано в Википедии.
— Он был младше меня на три-четыре года. Но на самом деле мы учились с ним в одной школе. Есть даже такая легенда, что я Стаса принимал в пионеры или в октябрята, было что-то такое. Я помню его выпуск, потому что мы над ним шествовали. Но лично его я не помню, честно скажу. Вот Сашу Истомина, его друга, я помню, такой был мальчик одарённый, хорошо играл в футбол. Не знаю, какая у него была судьба.
В принципе, времена моего детства были абсолютно безоблачными.  Платформа Челюскинская, посёлок Старых большевиков. Мой прадед был старым большевиком. Дедушка моей мамы, Номоконов Петр Кузьмич, эвенк, между прочим, [был родом] из Амурской области, села Сковородино. Мы очень скромно и достойно по нынешним временам жили.
Платформа Челюскинская, посёлок Старых большевиков. Мой прадед был старым большевиком. Дедушка моей мамы, Номоконов Петр Кузьмич, эвенк, между прочим, [был родом] из Амурской области, села Сковородино. Мы очень скромно и достойно по нынешним временам жили.
Это было абсолютно безопасное детство в 70-е годы, когда мы, мальчишки, могли на велосипедах уезжать за 10 километров от дома. Я в магазин ездил куда угодно, никаких проблем никогда не было. Единственные проблемы были от хулиганов из соседнего посёлка. Мы [были] дети интеллигентные, дети дачников, а рядом был «Строитель», завод стройпластмасс, где были постоянные ребята, и, естественно, они нас подпрессовывали немножко. Потом я подружился с этими ребятами.
Лес для меня был родным с детства. Я очень любил с книжкой рано утром уходить в лес. [Это был] чудесный сосновый лес, там канал у нас проходил, поэтому лес был заповедный, его не трогали очень долго. Потом, когда я уже закончил школу, с той стороны они организовали свалку около этого леса. А в моём детстве это был абсолютно девственный лес совсем рядом с Москвой, где [росли] белые грибы, подберёзовики, подосиновики. У меня были такие заповедные лужайки среди маленьких ёлочек, куда взрослый не мог пробраться. А я пробирался туда, и, помню, там была такая полянка как из какой-то сказки, на которой [росла] черника и земляника. Я брал книги, очень любил Джеральда Даррелла, допустим, «Поймайте мне колобуса», «Три билета до Эдвенчер», другие его книги. Каждую я ждал как какое-то новое слово, радостное событие. Я уходил в лес и спал там целый день.
Это, наверное, от дедушки моего досталось, [который был родом] из западной Белоруссии. Он меня научил ходить по лесу, я помню, деда Вася брал меня собой маленьким мальчиком. Он шёл размашистым спокойным шагом, как белорусы ходят, тихо говорил, как все белорусы говорят. Он много чего в жизни видел. Он читал мне стихи Есенина. Он, как крестьянский сын, очень любил Есенина, знал его всего наизусть. Кроме этого, он знал наизусть Хайне на немецком языке, собрание сочинений Гёте, владел итальянским, эсперанто. В общем, необычный был человек. Он научил меня чувствовать лес, любить его. Я не заблужусь в лесу никогда, в любом лесу я чувствую себя как дома с тех пор.
Потом я вырос и попал в такую лакуну между поколениями, когда моих сверстников практически не было. Я рос как у Гумилёва: «Дерево да рыжая собака — вот кого он взял себе в друзья». И собака у меня была, и книги были. С класса седьмого-восьмого я на даче жил один. Уже умерли дедушка и бабушка, родители работали. Поэтому я летом жил один. Велосипед есть, деньги оставляли, ребята какие-то были. Но, в основном, книги и лес, это было прекрасно.
Но вместе с тем надвигались 80-е годы и вместе с ними надвигалось ощущение маразма, который нас окружал. Теперь, когда я уже стал взрослым, я понимаю, что те люди, которые тогда правили Советским Союзом, вообще не понимали, что находится у них в руках, каким сокровищем они руководят волею судеб. Это были ничтожные маленькие людишки. И Брежнев, и Андропов, и все остальные. Потому что по их делам мы видим, что они сделали. Они буквально «просрали» то наследие, которые им оставили гиганты 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов, победители в войне, создатели могучей индустриальной страны, создатели неоантичной культуры, которой можно считать советскую культуру. Да, в ней было много выдуманного. Но невыдуманное в ней было, конечно, то, что это была по-настоящему народная власть, которая разделялась большей частью народа.
Наверное, эта власть не могла понравиться Анне Андреевне Ахматовой, Михаилу Зощенко. Условно говоря, в России было два типа населения: жители бунинских «темных аллей» (Ахматова, Зощенко, Бунин, Пастернак) и жители деревень, городов, сёл, местечек. Это была большая часть населения. И советская власть была властью подавляющего большинства населения, это была власть тех женщин, кого Ахматова научила говорить, про кого она сказала: «Я научила женщин говорить, о боже, как их замолчать заставить». Это были простые люди когда-то в 1917 году, не умевшие писать и читать. Потом они стали инженерами, воинами, учёными, учителями, журналистами, писателями. Наивными, но это был молодой народ, который развивался.
Извините, а американцы XVIII века, что были другими? Прежде чем американская нация дошла до Рузвельта, даже до Линкольна, Фолкнера, Мэлвилла, до великой американской литературы, великой психологии, великого киноискусства, эта нация боролась за свою независимость как суверенная нация, оставила свои принципы существования, казавшиеся тогда миру дикими. Кто такие американский народ? Секты — странные мормоны, дикие баптисты, непонятные пятидесятники — непонятно кто. На них смотрели люди во Франции или в Англии и думали: кто это такие? Кто такой Пенн [и его] «Филадельфия — город солнца, город счастья»? Сумасшедшие какие-то. Но мы видели, что эта нация сумела защитить свои странные принципы и эти принципы стали…
— Универсальными сейчас во многом…
— Они не являются универсальными, потому что они не универсальны для исламского мира, для Китая, во многом и для России. Но они являются общепризнанными принципами американской нации.  И я считаю, что молодая советская нация была точно такой же. Да, это были неуклюжие люди, которые учились говорить, читать и писать. Лохматые мужики и бабы в платках, которых мы видим на фотографиях начала XX века, становились постепенно комсомольцами и комсомолками в этих косоворотках, со значками, вышагивающими по Красной площади. Ведь это же чудо, ты смотришь какой-нибудь парад физкультурников 1934 года, и невозможно себе представить, как выглядели родители этих людей двадцать лет назад, как выглядели бы эти парни и девушки, чем бы они были. Это было чудо преображения, эта нация выиграла страшнейшую войну. В жизни каждой молодой нации есть такая война. В жизни английской нации была такая война, когда Испанская армада пошла на Британию, и они разгромили своего врага. Было такое в жизни французского народа, когда молодая французская нация, тоже неуклюжая, с какими-то красными колпаками, Марсельезой, со всеми этими дикими жестокостями, но всё равно они стали такими. В юности американской нации были тоже дикие события.
И я считаю, что молодая советская нация была точно такой же. Да, это были неуклюжие люди, которые учились говорить, читать и писать. Лохматые мужики и бабы в платках, которых мы видим на фотографиях начала XX века, становились постепенно комсомольцами и комсомолками в этих косоворотках, со значками, вышагивающими по Красной площади. Ведь это же чудо, ты смотришь какой-нибудь парад физкультурников 1934 года, и невозможно себе представить, как выглядели родители этих людей двадцать лет назад, как выглядели бы эти парни и девушки, чем бы они были. Это было чудо преображения, эта нация выиграла страшнейшую войну. В жизни каждой молодой нации есть такая война. В жизни английской нации была такая война, когда Испанская армада пошла на Британию, и они разгромили своего врага. Было такое в жизни французского народа, когда молодая французская нация, тоже неуклюжая, с какими-то красными колпаками, Марсельезой, со всеми этими дикими жестокостями, но всё равно они стали такими. В юности американской нации были тоже дикие события.
— Дикий запад, геноцид коренного населения…
— Дикий запад — это чуть позднее, захват запада начался после Гражданской войны. Да, слабейшие умирают. Пенн пытался в Пенсильвании ввести их в Конгресс штата, в Филадельфии даже есть статуя вождей. Он пытался достичь гармонии с коренным населением, но, в целом, там всё по-другому обернулось, потому что [там были] золото и нефть. И советский народ был таким же. Народ требует лидеров: вашингтонов, мэдисонов, адамсов, робеспьеров, дантонов, сен-жюстов, бонапартов, в конце концов. Народ требует линкольнов, но народ не требует хрущёвых, фролов козловых, анастасов микоянов, сусловых и брежневых. Эти люди не соответствовали задачам [того времени], и Горбачев был финальной частью деградации. Это была уже моя молодость, я понимаю, что тогда происходило.
— Тогда вы были уже взрослым человеком, вам было двадцать лет. Вы понимали тогда, что советский проект движется к своему закату?
 — Я не был, конечно, взрослым, я был молодым человеком. И мне было это безразлично, потому что в моей жизни была любовь, были интереснейшие друзья, ярчайшие люди того времени: Андрей Полонский, Аркадий Славоросов, Надежда Кеворкова, другие разные люди. Некоторых ребят я знал по их именам в системе (псевдонимам — прим. ред.). Это был целый мир свободы, странствий, бродяжничества, православия, буддизма, эзотеризма, гиперинтеллектуальной литературы. Где можно было у костра сидеть и, варя тушёнку, обсуждать роман Гессе или Борхеса, труды Николая Кузанского, спорить о книгах Раджниша или обсуждать отцов церкви. Была абсолютная свобода, параллельный мир, который меня пленил. [Это был] мир поэзии и музыки, где какие-то ребята могли взять банджо или гитару и начать играть совершенно невероятную, как мне казалось, музыку. Где мы друг другу помогали, я помню, когда мы странствовали по Крыму, была такая Лейла, она же Симона, из Петрозаводска. Потом она уехала в Финляндию, не знаю, жива ли она. У неё был восьмимесячный младенец. Как мы все заботились об этом ребёнке. Много чего было.
— Я не был, конечно, взрослым, я был молодым человеком. И мне было это безразлично, потому что в моей жизни была любовь, были интереснейшие друзья, ярчайшие люди того времени: Андрей Полонский, Аркадий Славоросов, Надежда Кеворкова, другие разные люди. Некоторых ребят я знал по их именам в системе (псевдонимам — прим. ред.). Это был целый мир свободы, странствий, бродяжничества, православия, буддизма, эзотеризма, гиперинтеллектуальной литературы. Где можно было у костра сидеть и, варя тушёнку, обсуждать роман Гессе или Борхеса, труды Николая Кузанского, спорить о книгах Раджниша или обсуждать отцов церкви. Была абсолютная свобода, параллельный мир, который меня пленил. [Это был] мир поэзии и музыки, где какие-то ребята могли взять банджо или гитару и начать играть совершенно невероятную, как мне казалось, музыку. Где мы друг другу помогали, я помню, когда мы странствовали по Крыму, была такая Лейла, она же Симона, из Петрозаводска. Потом она уехала в Финляндию, не знаю, жива ли она. У неё был восьмимесячный младенец. Как мы все заботились об этом ребёнке. Много чего было.
Это было прекрасное ощущение, когда из такого мира, где все линии горизонтальны и перпендикулярны, как в «Двух капитанах». «Палочки должны быть попендикулярны», — говорил отчим главного героя в детстве. Вот и у нас так же всё было ясно: ты живёшь, учишься, потом ты заканчиваешь институт и становишься инженером, работаешь, заводишь семью, и дальше у тебя всё так же складывается. И вдруг выяснилось, что всё это не важно, что ты можешь сам всё решать и всё определять. Я помню, после третьего курса я уже особо не учился, прямо скажем, я ушёл в академку по болезни, после тяжёлой спортивной травмы. Я тогда хорошо занимался спортом, в школе особенно. Это была академка со стипендией, т.е. она была не по неуспеваемости, я помню, что я пришёл на экзамен, сдал его на «пятёрку» и после этого потерял сознание.
За это время я поработал сторожем гаражей, на почте разносчиком, постранствовал, пописал стихи и тексты разные, пообщался с разными интереснейшими людьми. И, конечно же, мне мой Московский авиационный институт был уже не особенно интересен на 4-5 курсе. Я на автомате сдавал сессию и получал стипендию, но меня уже интересовали другие совершенно вещи: литература, рок-музыка, философия, религия, психология, познание человека и всё такое прочее.
— Получается, вы жили в такой неформальной среде…

— Я стал жить полностью неформальной [жизнью], когда я ушёл от родителей и стал работать дворником в Москве около МИДа на ул. Веснина. Сейчас она, по-моему, Денежный переулок называется. У меня была огромная комната на пятом этаже, у меня и концерты были. Такой мир был интересный и достаточно безумный. Но при этом угар меня никогда не увлекал. Вокруг меня, честно говорю, были и наркотики, и спиртное, но меня это не увлекало. Меня привлекало сознание, я никогда не хотел забыться, уснуть наркотическим или алкогольным сном, или сном разврата, прожигания жизни. Наоборот, меня всегда интересовала ясность жизни, реальность жизни. Политика меня, конечно, интересовала. Но та политика, которая предлагалась, она была скучна и отвратительна.
— И даже съезды эти знаменитые 1989-1990 годов, которые тогда проходили?
 — Мы их как-то смотрели, но нам казалось, что наши собрания на квартирах, наши тусовки гораздо интереснее, чем выступления Андрея Сахарова. Хотя мне довелось лично знать Андрея Дмитриевича Сахарова. Я просто подошёл к нему на улице и мы с ним минут двадцать разговаривали. Я задал ему какой-то вопрос. Елена Боннэр тогда была, это была демонстрация Демократического союза в 1989 году, после апрельских событий в Тбилиси.
— Мы их как-то смотрели, но нам казалось, что наши собрания на квартирах, наши тусовки гораздо интереснее, чем выступления Андрея Сахарова. Хотя мне довелось лично знать Андрея Дмитриевича Сахарова. Я просто подошёл к нему на улице и мы с ним минут двадцать разговаривали. Я задал ему какой-то вопрос. Елена Боннэр тогда была, это была демонстрация Демократического союза в 1989 году, после апрельских событий в Тбилиси.
Или, допустим, Александра Солженицына. Я просто подошёл к нему, и Александр Исаевич со мной два или три часа гулял по Москве и разговаривал. Я просто какой-то вопрос ему задал. А он был такой человек, которой очень хотел разговаривать. Это был 1996 год. Я уже побывал во Франции в монастыре Мурмелон под Реймсом.

Все тогда приезжали на Сент-Женевьев-де-Буа в Париж на могилу Бунина. Но жизнь истеблишмента мне была всегда отвратительна.
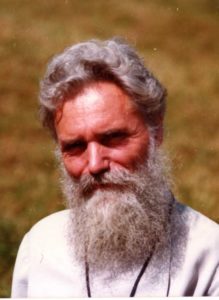 А Мурмелон под Реймсом — это место, где было военное кладбище Русского экспедиционного корпуса. Там очень интересный был священник — о. Георгий Дробот. В моих странствиях я на него наткнулся. Войну он провёл в Германии. Он был власовец, между нами говоря. Я со многими власовцами разговаривал в Европе. В те годы застал стариков, которые рассказывали мне правду с той стороны. Поэтому когда я определяю свою позицию сегодня за советскую или не за советскую [власть], я не теоретически это делаю. Мне повезло, я разговаривал с ними как со свободными людьми, а не как с пленными и т.д. Они мне рассказывали о жизни в Берлине с 1941 по 1945 год, о том, как они служили в войсках Краснова или Шкуро. Отец Георгий там служил. Потом он учился в институте св. Сергия в Париже. Ему читали лекции Флоровский, Карташов, Мейендорф.
А Мурмелон под Реймсом — это место, где было военное кладбище Русского экспедиционного корпуса. Там очень интересный был священник — о. Георгий Дробот. В моих странствиях я на него наткнулся. Войну он провёл в Германии. Он был власовец, между нами говоря. Я со многими власовцами разговаривал в Европе. В те годы застал стариков, которые рассказывали мне правду с той стороны. Поэтому когда я определяю свою позицию сегодня за советскую или не за советскую [власть], я не теоретически это делаю. Мне повезло, я разговаривал с ними как со свободными людьми, а не как с пленными и т.д. Они мне рассказывали о жизни в Берлине с 1941 по 1945 год, о том, как они служили в войсках Краснова или Шкуро. Отец Георгий там служил. Потом он учился в институте св. Сергия в Париже. Ему читали лекции Флоровский, Карташов, Мейендорф.
— С Никитой Струве вы, наверное, были знакомы.
— Со Струве я потом познакомился, когда он уже приехал в Россию, я с ним интервью делал. Я с огромным уважением к нему отношусь, но о. Георгий Дробот мне, честно говоря, казался интереснее. Когда человек реально отдаётся в жизни какой-то идее, а не за деньги [что-то делает], то я, даже если это мой политический враг, я буду относиться к нему с уважением и даже с симпатией. Я презираю меркантилизм, но к идейным убеждениям я отношусь всегда с уважением. И к таким людям.
В то время я еще искал. Потому что мы все были очарованы Солженицыным, ещё чем-то. Очень большое впечатление на меня произвёл Александр Огородников. Был такой известный православный диссидент, правозащитник из семинара о. Димитрия Дудко. Брат его был монахом Псково-Печерского монастыря. Кстати, учитель теперь уже митрополита Тихона Шевкунова. Владыка Тихон теперь служит в Пскове, вернулся в монастырь, где когда-то начинал свой путь, я очень рад за него. Неплохо знаю владыку Тихона тоже.
Александр Иоильевич Огородников производил впечатление. 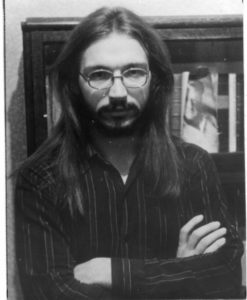 Это был человек железной воли, выдержавший, как мне казалось, застенки. Хотя я понимаю, что в 2000-е годы я столкнулся с людьми, которые выдержали такие застенки, по сравнению с которыми советские — это просто [обычная] жёсткая тюрьма. То, что я сейчас вижу во Владимирской области, о чём Дима Дёмушкин рассказывал, в СССР было невозможно абсолютно. А сейчас это норма. И это касается не только его, это касается тысяч людей, сидящих в тюрьмах.
Это был человек железной воли, выдержавший, как мне казалось, застенки. Хотя я понимаю, что в 2000-е годы я столкнулся с людьми, которые выдержали такие застенки, по сравнению с которыми советские — это просто [обычная] жёсткая тюрьма. То, что я сейчас вижу во Владимирской области, о чём Дима Дёмушкин рассказывал, в СССР было невозможно абсолютно. А сейчас это норма. И это касается не только его, это касается тысяч людей, сидящих в тюрьмах.
Поэтому он [Александр Огородников] произвёл на меня сильное впечатление. Под его влиянием я пришёл в Православную церковь. Это было достаточно серьезно, я ездил и в Лавру, знал о. Наума (Байбородина — прим ред.), ездил в Псково-Печерский монастырь. Но, врать не буду, я не был таким уж совсем воцерковлённым. Хотя были моменты, когда я держал посты очень строго и службы знал наизусть, да и сейчас знаю некоторые: и акафисты, и тропари.
Потом я преподавал в гимназии общества «Радонеж» в начале 90-х. Прекрасное было время. Я жил за городом на даче, где я провёл детство. Зимой я туда приехал, когда мне надоело быть дворником. Однажды выпал свежий снег, и я подумал: всё, с меня хватит. Я взял свою пишущую машинку «Континенталь», такую тяжеленную и старинную, книги, помню томик Цветаевой…
Мне было просто очень интересно жить, я искал свою судьбу. Мы жили совсем особым миром по ту сторону реальности. И были абсолютно счастливы, каждый по своему и все вместе. Мы были достаточно молоды, кипели страсти. Это было интеллектуальное общение.
— Тогда же вы познакомились с Гейдаром Джемалем?
 В 1995 году я познакомился с Гейдаром Джемалем, когда пришёл работать в «Независимую газету». Хотя я [и раньше] слышал про него и про его «Ориентацию — Север». Я вам её подарю. Недавно у нас вышла книжечка «Ориентация — Север» и сборник его стихов.
В 1995 году я познакомился с Гейдаром Джемалем, когда пришёл работать в «Независимую газету». Хотя я [и раньше] слышал про него и про его «Ориентацию — Север». Я вам её подарю. Недавно у нас вышла книжечка «Ориентация — Север» и сборник его стихов.
— И он оказал на вас значительное интеллектуальное влияние?
На меня оказали интеллектуальное влияние все люди, которые были [рядом]. И Андрей Полонский, и Аркадий Славоросов, и Надежда Кеворкова, и Гейдар Джемаль, безусловно, и Орхан Джемаль, его сын, и Александр Огородников. И те люди, с которыми я был знаком в других странах: палестинцы, израильтяне, европейцы. Мне доводилось видеть самых удивительных людей в моей жизни, разговаривать с ними. Я благодарен Богу за такую судьбу. Но с другой стороны, я всегда шёл навстречу судьбе, навстречу интересному. И поэтому интересное, наверное, отвечало мне взаимностью.
 Когда я был контркультурным поэтом, журналистику мы презирали. Но потом выяснилось, что журналистика — это то, что может тебя кормить вполне успешно. Я пришёл в «Независимую газету» просто с улицы, спасибо Олегу Давыдову. По-моему, Олега уже нет в живых, к сожалению. Он тогда возглавлял отдел публицистики «Независимой газеты». Это был прекрасный публицист и философ, тоже пришедший из контркультуры. Тогда «Независимая» была удивительным изданием. На первых страницах можно было прочитать про Таджикскую войну или про переговоры Зюганова с Ельциным, а на последней странице — манифест Жозефа де Местра. Мне там было ужасно интересно.
Когда я был контркультурным поэтом, журналистику мы презирали. Но потом выяснилось, что журналистика — это то, что может тебя кормить вполне успешно. Я пришёл в «Независимую газету» просто с улицы, спасибо Олегу Давыдову. По-моему, Олега уже нет в живых, к сожалению. Он тогда возглавлял отдел публицистики «Независимой газеты». Это был прекрасный публицист и философ, тоже пришедший из контркультуры. Тогда «Независимая» была удивительным изданием. На первых страницах можно было прочитать про Таджикскую войну или про переговоры Зюганова с Ельциным, а на последней странице — манифест Жозефа де Местра. Мне там было ужасно интересно.
 Я тогда читал только две газеты: «Спорт-Экспресс», потому что это тогда был новый способ разговора о футболе, например, (за что меня презирали мои друзья, кстати) и «Независимую газету». Вот стиль «Коммерсанта» мне никогда не нравился, и все другие буржуазные газеты.
Я тогда читал только две газеты: «Спорт-Экспресс», потому что это тогда был новый способ разговора о футболе, например, (за что меня презирали мои друзья, кстати) и «Независимую газету». Вот стиль «Коммерсанта» мне никогда не нравился, и все другие буржуазные газеты.
— Это было для истеблишмента больше.
— Для буржуазного истеблишмента. А «Независимая» была артефактом, со своими текстами на разворот, с передовицами Третьякова, с невероятными интервью, которые могли быть на два разворота. При этом это была ежедневная газета. Когда я пришёл с моим товарищем Сергеем Ташевским просто с улицы, Давыдов нам сказал: напишите что-нибудь. Серёга не написал, а я написал. Я написал текст о разных типах революции. На мой взгляд, это был абсолютный бред, но это внезапно напечатали. Я помню, как мне безумно это нравилось, я гордился, что в «Независимой» — моё имя. И все тоже офигели. А потом я напечатал ещё текст «Русский лес под Реймсом» про Мурмелон, потом про Ульрику Майнхоф.
 Я ещё в 80-е годы интересовался леворадикальным немецким движением и вообще левыми радикалами. Так как у меня немецкий язык был достаточно свободный, я ходил в «Иностранку» и там читал разные работы по RAF, Баадер-Майнхоф, Гудрун Энслин. Мне нравился этот романтический подход к реальности.
Я ещё в 80-е годы интересовался леворадикальным немецким движением и вообще левыми радикалами. Так как у меня немецкий язык был достаточно свободный, я ходил в «Иностранку» и там читал разные работы по RAF, Баадер-Майнхоф, Гудрун Энслин. Мне нравился этот романтический подход к реальности.
— Как же это сочетается с «Вестником Христианской демократии» (журнал, который редактировал Максим Шевченко в нач. 90-х — прим. ред.)? Это же полные противоположности.
— А очень легко. Потому что Майнхоф — это одна из старейших лютеранских семей. Майнхоф был сподвижником Лютера и один из переводчиков Библии. Ульрика Майнхоф закончила богословскую школу, как и Гудрун Энслин. Энслины — это тоже одна из старейших лютеранских семей, причём религиозных. Эти девочки учились в 50-60-е годы в элитных богословских школах. Они происходили из интеллектуального антифашистского истеблишмента, это была то, что называется, «золотая кровь» Германии. Причем, они были родом из Швабии, по-моему (Гудрун Энслин, действительно, родилась в Швабии, земля Баден-Вюртемберг, а Ульрика Майнхоф — в Нижней Саксонии, совершенно другой части Германии — прим. ред.). Это вообще особая территория, где сочетается католицизм с протестантизмом, где идут очень острые дискуссии.
— Герман Гессе был из Швабии, по-моему.
— Швабом был Гессе и Хайдеггер. Я очень люблю южную Германию: Баден-Вюртемберг, Швабен, Байерн. Мне очень нравится гулять по этим местам. Я и Берлин люблю, я вообще очень люблю Германию. И потому, что понимаю немецкий язык, и потому, что понимаю, мне кажется, немецкий дух. Меня это очень интересовало тогда, я смотрел «Берлин-Александерплац» Фассбиндера и другие его фильмы: «Тоска Вероники Фосс», «Замужество Марии Браун», ряд других.
И меня ужасно интересовало, как великая, одна из величайших культур на Земле, немецкая культура, прошла этот путь: романтизм-идеализм-нацизм. И моя работа была посвящена идее того, что левый радикализм Баадер-Майнхоф — это попытка немецкого духа ответить на главный вопрос германского самосознания — вопрос Фауста. Это вопрос о подлинности происходящего: зачем вот это всё? В финале Фауста, как вы помните, когда Фауст был уже слепой, дьявол-Мефистофель ему рассказывает: там ведутся работы, делаются каналы и т. д. Фауст не может знать, правда это или нет. И когда он говорит: «Остановись, мгновение, ты прекрасно», то всё прекращается. И Господь его спасает, потому что его дух, несмотря на его ошибки и договор с дьяволом, стремился к подлинности, к познанию, а не к материальному.
Немецкая культура такова, идеализм немецкой культуры он, в том числе, привёл и к левому радикализму 70-х. Это совершенно уникальное явление, и недаром девочки, получившие богословское образование и увлекавшиеся в молодости Германом Гессе («Степной волк» была их любимая книга), становятся участницами леворадикального подполья, выступающего против мира-свинарника. Как определяла его Ульрика Майнхоф в своих трудах. Мне это было очень интересно, я видел в этом абсолютно религиозный смысл, несмотря на их маоизм, неомарксизм и все такое прочее. Это был героический порыв, героическое постулирование. [Они были] герои в мире капитала, наживы, потребления и т. д. Это был протест великой немецкой культуры. В этих девушках я видел ипостась Фауста в его протесте против того, во что превратилась Германия после разгрома тоталитарных учений XX века.
Потом был текст про имама Шамиля, меня интересовала Кавказская война. Меня интересовало героическое в истории. Потом был текст — «Путешествие в страну Заката», про то, как я из Парижа ходил в Сантьяго-де-Компостела. Не буду врать, не пешком я прошёл этот путь, а автостопом.  В общем, через Страну басков, которые ужасно на меня обиделись, я помню. Но я писал то, что я видел, автостоп в стране басков был очень плохой. Баски не подвозили иностранцев, в это время были ксенофобами, на каждом камне было написано ЭТА, террористическая организация. А в Астурии подвозил каждый, и каждый каталонец тебя сажал в машину. В Галисии, в католических землях — то же самое. Если каталонцы тебя подвозили потому, что они левые и у них такая «солидарите», то астурийцы и галисийцы — потому, что они католики, им Христос велел подвозить странников. А баски были националистами, которые постоянно с тобой разговаривали о том, что Баскония — огромная, почти от Мадрида и почти до Нанта. Они давали мне листовки с картой. Я помню кафе в Бильбао, которое называлось «Большевик», с портретами Ленина, Троцкого, с макетом знаменитого корабля, который потопила итальянская лодка, на котором везли басконских детей во время Гражданской войны в Советский Союз (Пабло Гонсалес, журналист из Бильбао, сообщает, что ни он, ни его знакомые не помнят такого кафе — прим. ред.). В общем, это было интересное время.
В общем, через Страну басков, которые ужасно на меня обиделись, я помню. Но я писал то, что я видел, автостоп в стране басков был очень плохой. Баски не подвозили иностранцев, в это время были ксенофобами, на каждом камне было написано ЭТА, террористическая организация. А в Астурии подвозил каждый, и каждый каталонец тебя сажал в машину. В Галисии, в католических землях — то же самое. Если каталонцы тебя подвозили потому, что они левые и у них такая «солидарите», то астурийцы и галисийцы — потому, что они католики, им Христос велел подвозить странников. А баски были националистами, которые постоянно с тобой разговаривали о том, что Баскония — огромная, почти от Мадрида и почти до Нанта. Они давали мне листовки с картой. Я помню кафе в Бильбао, которое называлось «Большевик», с портретами Ленина, Троцкого, с макетом знаменитого корабля, который потопила итальянская лодка, на котором везли басконских детей во время Гражданской войны в Советский Союз (Пабло Гонсалес, журналист из Бильбао, сообщает, что ни он, ни его знакомые не помнят такого кафе — прим. ред.). В общем, это было интересное время.
Потом началась Чеченская война, и эта война переместила меня в другое пространство реальности. Политика вошла в мою жизнь. До этого всё это было несущественно.